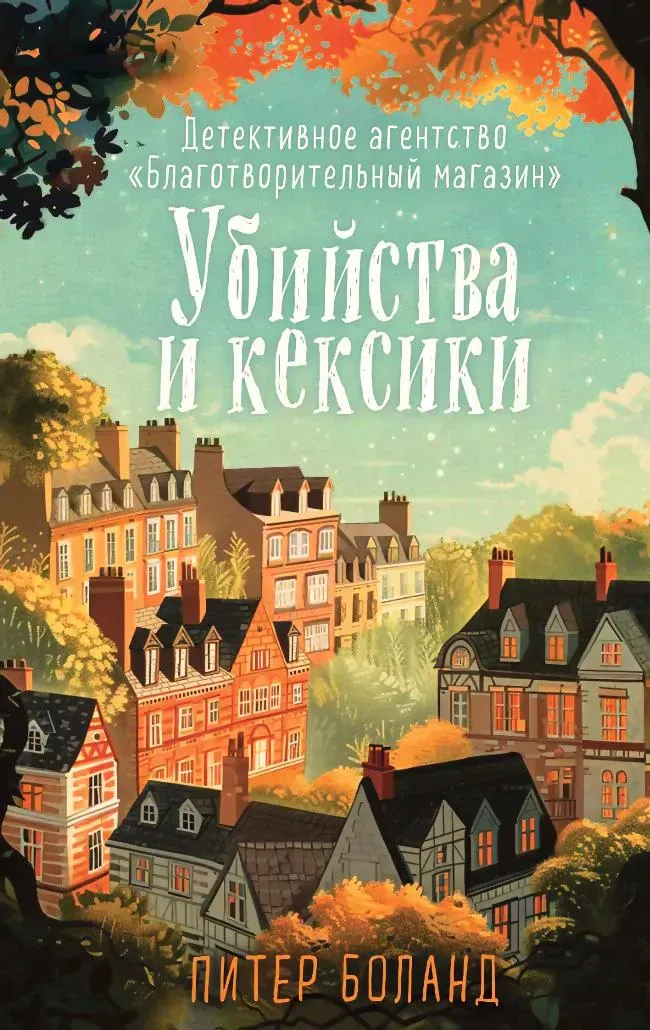Персона
О духовном. «Нам не рассада важна, а послушание»
Колокола начинают звенеть к шести утра, знаменуя начало богослужения. В это раннее время в монастырском храме собираются не только монахи и послушники, но и прихожане. Так начинается каждый день монастыря – год за годом. Чье-то пребывание в обители исчисляется уже десятками лет, кто-то провел здесь лишь несколько дней. «Проспект-СК» решил провести один день в стенах Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, чтобы узнать, чем наполнена жизнь людей, решивших посвятить себя служению Богу.

У каждого, кто стремится в монастырь, есть мотивация, о которой они говорят с неохотой: слишком личное. Испытания, в ходе которых человек доказывает готовность принять постриг, могут длиться годами. Отказаться от удовольствий, жить в аскетизме, вставать до восхода, исполнять послушания и бесконечно молиться – вряд ли к этому готовы офисные клерки или клубные промоутеры…
В миру бытует мнение, что жизнь священников, и уж тем более монахов, легка и беззаботна: знай себе, молись, а уж верующие люди обеспечат и хлебом, и деньгами. Все далеко не так. На ежедневную молитву в монастырях отводят около 5–6 часов, примерно столько же отводится на сон все остальное время монахи работают не покладая рук, неся различные послушания – от уборки территории до сбора лекарственных растений, приготовления пищи, ухода за скотом... При этом совершенно не обязательно, что послушание устанавливают в зависимости от образования: архитектора могут отправить убирать коровник, а бывшего учителя математики – чистить картошку на монастырской кухне…
С игуменом Стефаном (Дзугкоевым), наместником Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, мы знакомы много лет, еще с той поры, когда мне довелось быть редактором газеты «Православная Осетия». Человек он неординарный, в некоторой степени даже философского склада. Помню, как на мой вопрос: почему он решил стать монахом? – отец Стефан рассказал, что в определенный момент жизни встал перед внутренним выбором – по какому пути дальше двигаться? Начал задумываться о многих вещах, осознал, что в принципе, все жизненные идеалы «окрашены» либо в белый цвет, либо в черный. И хотя многим видятся и другие цвета, но чаще всего это или самообман, или иллюзии. На самом деле всегда есть только три пути – прямо, направо или налево. И прямо – это дорога к Богу, а направо или налево – путь от Него…

Он пришел в монашество в зрелом возрасте, в 32 года, с уже накопленным жизненным опытом. Естественно, принять такое решение было непросто. Любой здравомыслящий человек понимает, что минусов и лишений в подобной жизни намного больше, чем плюсов. Поэтому отец Стефан здраво отдавал себе отчет в том, на что он себя обрекал... Будучи по мирской профессии строителем 7 июля 2003 года он вместе с тремя сотоварищами и скромным скарбом перебрался на житье в горы, в Куртатинское ущелье. С того момента началась история Аланского Свято-Успенского мужского монастыря – самого высокогорного (1500 метров над уровнем моря) в России…
Горы обступают это место со всех сторон. Когда из-за очередного поворота дороги появляются строения монастыря, то они больше напоминают не современные сооружения, а средневековую крепость – с высокими стенами, сложенными из разнокалиберных камней, узкими, словно бойницы, окошками и горскими башнями по углам. Практически никакого декора — только двери имеют узор. И при этом никакой излишней суровости: к примеру, я воспринимала это как данность, слитность с природой.

Построен монастырь на месте, где раньше было древнее средневековое осетинское поселение. Башни древних аулов, которые находятся тут же – позади монастыря и рядом с ним, удивительно органично соединены друг с другом будто бы единым архитектурным решением. Трудно поверить, что монастырь построен чуть больше двадцати лет назад, – настолько строго и тонко выдержан колорит и стиль, корнями уходящий в византийские архитектурные традиции. На самом же деле лишь сторожевые башни насчитывают больше столетия. А что до византийского стиля, то насельники говорят, что над «дизайном» никто особенно не работал: возводилось все постепенно, разными мастерами и без всяких изысков. Как говорит отец Стефан: «Господь Сам указывал. Правда, при возведении собора мы пытались повторить древние архызские памятники. И после, когда сверяли, то обнаружили, что практически ни в чем не ошиблись». Вобщем, весь комплекс получился довольно гармоничным, а суровые крепостные стены великолепно вписались в окружающий ландшафт с высокими пиками и ледяными «шапками» горных вершин.

Эти земли имеют давнюю историю, а места вокруг – святые. Ранее здесь были храм в честь Жен-мироносиц, который датируется примерно 1858 годом, и церковно-приходская школа. Старинная церковь была полуразрушена, от нее сохранились лишь остатки стен. Будущие насельники монастыря сразу же взялись за восстановление храма и строительство братского корпуса. Каменные стены ХIХ века были тщательно отреставрированы и стали основанием для современной церкви. Сегодня здесь хранится список чудотворной иконы Иверской Божией Матери, подаренной осетинам царицей Грузии Тамарой, которая по кончине своего первого супруга, русского князя Георгия Андреевича, сына Андрея Боголюбского, вступила в брак с осетинским царевичем, князем Давидом-Сосланом. Эта главная святыня Осетии и всего Северного Кавказа 600 лет хранилась в часовне, которая находится в пяти километрах от монастыря. В годы Великой Отечественной войны подлинник иконы был утрачен. Но, по преданию, с восстановлением православных монастырей в Осетии эта святыня должна быть обретена…
Чуть позже здесь был возведен монастырский собор, а сторожевые башни 17-го века удачно вписались в монастырский комплекс и одна из них служит теперь колокольней. Кстати, в средние века на этой территории проживал старинный род Гусовых, а его потомки принимали активное участие в сохранении родовой старины. В строительстве принимали участие не только монахи, но и прихожане, а при необходимости нанимали «узких» специалистов. В настоящее время монастырский комплекс состоит из собора, братского корпуса и хозяйственных построек. Основу монашеской братии составили осетины, проходившие духовную подготовку в Рыльском Свято-Николаевском мужском монастыре, где их наставлял старец-архимандрит Ипполит (Халин). Он и указал трудникам строить в Осетии монастырь.

Отец-игумен рассказал, что есть у насельников монастыря свое подсобное хозяйство: за нижним храмом раскинулся яблочный сад; на хозяйственном дворе обитают стадо коров и около 300 кур; имеется и пасека на несколько десятков пчелиных семей – то есть монахи обеспечивают пропитанием не только себя, но и других, реализуя излишки производимой продукции в самом монастыре, а еще в монастырских лавках во Владикавказе и Беслане.

Уже 14 лет животноводством в монастыре заведует отец Лука. По мирской профессии он врач. Человеческий. Но по назначенному настоятелем послушанию освоил «смежную» профессию, да так, что не хуже зоотехника разбирается в сене, комбикормах и витаминах для своих рогатых подопечных. А еще помнит по именам всех 30 коров и телят. Те, кстати, платят ему взаимностью, приветствуя батюшку добродушным мычанием, только заслышав звук мотора его четырехколесного помощника-автомобиля…
Впервые здесь, в монастыре, мне довелось увидеть теленка знаменитой хайлендской породы: у него на лбу шоколадного цвета можно разглядеть ярко выраженное белое сердечко. «Самая стойкая порода, – просвещает нас отец Лука, – еду находят в любую погоду, даже под снегом и камнями, не болеют, прекрасно себя чувствуют вне теплого стойла»…
С этой мини-фермы молоко попадает на молочную кухню, в умелые руки отца Николая, по мирской профессии юриста, а по монастырской – сыродела. Отец Николай изготавливает из молока уникальный монастырский сыр, ряженку, сливки, сметану... Естественно, все продукты 100% натуральные и имеют приятный, как в детстве, и незабываемый вкус. «А у нас в монастыре что ни возьми – творог, яйца, мед – все натуральное, экологически чистое, как принято теперь говорить, – рассказывает отец Николай. – Мы ведь свой сыр по старинным рецептам делаем, при помощи сычуга (это засоленный и высушенный желудок коровы). Без всякой химии», – удовлетворенно улыбается сыродел.

Пока отец Николай показывает нашему фотографу монастырские закрома, я обнаруживаю еще одну открытую дверь, за которой оказывается мастерская. Инструменты здесь разложены и развешены в идеальном порядке, как у хорошей хозяйки на кухне. И тут появляется «владелец» этого богатства – отец Михаил, – в миру инженер-автомеханик, а здесь, в монастыре, он выполняет послушание в некоторой степени «завхоза». И на вопрос об его обязанностях отвечает телеграфным стилем: «Прикрутить, подключить, просверлить, отпилить, прибить…» и все в том же духе. Говорит строго, а в глаза «смеются»: видно, с юмором человек, о чем свидетельствуют серьезные и одновременно шутливые записочки на стенах мастерской. А в них обращения к братии: куда следует повесить замок и ключ, где должны находиться инструменты, дощечки и прочие железяки…
Хотя ох как непросто все это дается: в обители подвизаются 10 монахов и 4 послушника, и вряд ли братия осилила бы такую большую работу без трудников. Их бывает от пяти до семи, а то и до десяти человек – в сезон заготовок. Это, разумеется, большое подспорье.
В трапезной монастыря, которая наверняка при случае сможет вместить не меньше трехсот человек, отец Стефан угощает нас сытным монастырским обедом, сваренным как раз такими трудниками. На столе простая еда: вкуснейший рассольник, просто фантастические соленья, сыр, яблоки, зелень… «Щи да каши – пища наша», – смеется батюшка Стефан и в довершение наливает нам уникальный монастырский травяной чай, которому народная молва приписывает чудодейственные свойства. На вкус он очень приятный, с оттенками барбариса, мяты и чего-то еще сильно ароматного.
Иноки собирают травы в горах. Это, по сути, настой из смеси зверобоя, чабреца, боярышника и еще некоторых других. Когда обитель только начинали строить, обнаружили, что на холмах вокруг монастыря очень много этих лечебных трав. Начали их использовать. Со временем выработался рецепт: оптимальная смесь разных трав в определенных пропорциях. Оказалось, помимо простого утоления жажды, такой чай снимает усталость и расслабляет. Его хорошо пить на ночь – для улучшения сна. Монастырский чай в Северной Осетии многим пришелся по вкусу, и теперь его знают почти во всех уголках республики. Те, кто приезжает в обитель, обязательно стараются взять с собой хоть немного чая и часто приписывают ему целебные свойства – не только из-за травяного состава, но и из-за духовной составляющей: чай, собранный руками монахов, ценится очень высоко.

Кстати, собирать целебные травы не такое простое дело, как представляется на первый взгляд. Чтобы собрать достаточное количество, монахам приходится многими часами ходить по горным склонам, и пройденные ими расстояния измеряются десятками километров. За сезон здесь успевают собрать несколько сотен килограммов различных трав. Вроде бы не такая уж впечатляющая цифра, но, чтобы уместить все запасы чая, в монастыре выделили специальное помещение: высушенная смесь хоть и очень легкая, но занимает чрезвычайно большой объем. Собранный урожай монахи смешивают в нужных пропорциях и фасуют в небольшие пакетики. Часть оставляют для нужд монастыря, другую продают всем желающим.
Аланский монастырь, несмотря на кажущуюся простоту, – огромное и весьма сложное хозяйство, где за мощными крепостными стенами скрывается современная техника. Например, чтобы отапливать здания обители, в одной из башен установлен котел. Топливом для него служит сжиженный газ, который хранится в специально построенном резервуаре-хранилище и подается по сложной системе трубопроводов. А на случай непредвиденных поломок предусмотрены два электрогенератора.
Другой особенностью монастыря является подсветка его фасада. В вечернее время она включается автоматически и помогает в самом выгодном ракурсе увидеть все сооружения обители. Сделать подсветку предложили специалисты-электрики, которые совершали паломничество в монастырь. Монахи долго сомневались, стоит ли организовывать такие изыски, но потом все же согласились и не пожалели: в темное время суток самый высокогорный мужской монастырь России предстает в еще более красивом виде, чем днем.
Думается, читатели уже поняли, что монастырский быт суров и прост, здесь главенствует, конечно же, духовная составляющая. Все монахи заняты молитвой – как общей во время богослужений, так и индивидуальной, келейной. Именно она – главное оружие монаха. Молитва не только за себя, но и за весь мир. Не обходится, разумеется, и без решения бытовых вопросов: от них никуда не деться.
Отец Стефан, рассказывая мне о монахах, говорил так: «Многие считают, что монахи – особенные люди. Доля правды в этом, конечно, есть. Судите сами: человека, сознательно обрекающего себя на те или иные подвиги (а монашество — это именно подвиг), наверное, можно назвать особенным. Другое дело, что люди хотят видеть в нас святых, и это, безусловно, ошибочное суждение. Ни у одного из нас не было и нет на протяжении жизни гладкой дороги, никто не идет по коврам. Путь каждого полон падений, трудностей и искушений. Так же как и у любого человека. Но окружающие хотят видеть нас идеальными, неземными что ли. Приходится объяснять – мы такие же люди, боремся с теми же страстями и пороками, которые присущи всему человечеству. И в этом смысле монахи, конечно, не исключение».
По словам игумена Стефана, в монастырь сегодня приходит множество страждущих, духовно покалеченных людей. Сюда идут за помощью и утешением в своих проблемах: неблагодарные дети, разрушенные семьи, жестокость близких, зависимость от алкоголя или наркотиков. Идут и с просьбами: о рождении ребенка, выздоровлении родителей, с желанием причаститься или креститься. Люди знают, что в монастырях моление особое, и приезжают сюда из всех регионов Юга России. Часто туристы, приезжающие в монастырь, задают вопрос: с какими словами обращаться к Богу, если не знаешь молитвы. Нас же много таких, выросших в годы атеизма. В таких случаях отец-игумен отвечает, что нужно говорить с Богом на языке своей души: не столь важны слова, как светлые мысли. Молитесь о своих близких, а еще — о мире. Помню, как мама тихо шептала мне возле иконки: «Господи, пусть больше никогда не будет войны. Господи, услышь меня!»…
Сегодня повсеместно происходит процесс возвращения к истокам, к своим корням. Все мы пережили период советского атеизма, оставивший неизгладимые следы в сознании людей. Но, к счастью, сейчас многие пытаются разобраться в том, кем были наши предки, как они жили, какое мировоззрение имели, каких традиций придерживались. Эти знания становятся надежным ориентиром, без которого очень сложно жить, особенно в современном информационном хаосе. Ведь не секрет, что сегодня мы подвергаемся массированной информационной атаке, причем не всегда, а скорее крайне редко, она имеет позитивный посыл. То, о чем нашим родителям было даже думать страшно, сегодня происходит повсеместно, а порой даже возводится в ранг подвига, тиражируется телевидением и другими средствами информации. Идет явная пропаганда греха. Нашему поколению еще повезло, мы успели усвоить какие-то ценности, понятия о чести, порядочности, для нас они естественны. А вот с чем и как будут завтра жить наши дети? Это во многом определяется тем, какие ценности они усвоят сегодня. И в этом смысле от священников очень многое зависит. Ведь к ним обращаются за советом, за помощью, приходят с житейскими проблемами, пытаются найти ответы на повседневные вопросы. Радует, что с каждым годом все больше людей приходит в храмы. Вот и в самый высокогорный монастырь на воскресные службы приезжает много народу из Владикавказа, да и со всей Осетии. Приезжают также паломники и туристы из других регионов и даже из зарубежья. И все они, побывав в монастыре, увозят с собой частицу добра и света. А значит, есть надежда, что труды братии Аланского Свято-Успенского мужского монастыря не напрасны.
Prospect-sk № 55/2024