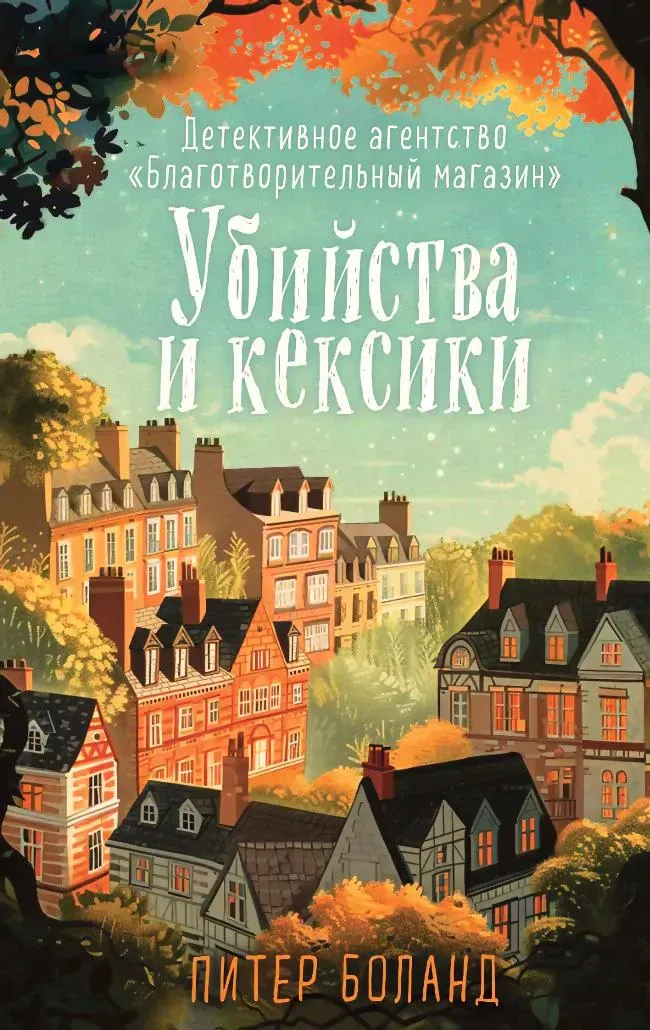Персона
#proлегенду. Пушкин и Ногмов: была ли встреча у горы Бештау?
В1935 году в Нальчике при Доме пионеров им. С. Орджоникидзе (сейчас «Дворец творчества детей и молодежи») был открыт кружок изобразительного искусства (впоследствии студия изобразительного искусства). Занятия в нем вели профессиональные живописцы, такие, как И.В. Балицкий, Н.Н. Гусаченко, М.А. Ваннах и др. Иван Васильевич Балицкий родился, жил и работал в Таганроге (Ростовская область) до 1933 года. А после переехал в Нальчик преподавать в художественных студиях.
Никто с полной уверенностью не может утверждать, что изображенная на картине встреча Пушкина и Ногмова действительно имела место. Но в середине двадцатого века тема дружбы народов была одним из самых востребованных сюжетов советской исторической живописи. Единственным источником версии о контактах Пушкина и Ногмова являются слова издателя последнего, Адольфа Берже, который писал: «…Некоторые кабардинцы, лично знавшие его, рассказывали, что он познакомился с Пушкиным во время бытности его в Пятигорске, что Ногмов содействовал поэту в собирании местных народных преданий, что поэт в свою очередь исправлял Ногмову переводы песен с адыгского на русский…». *
Видимо, мысль об этой встрече настолько заворожила Ивана Балицкого, что он осуществил художественную реконструкцию. И все-таки сюжет картины не отпускает и толкает к размышлениям.

Да, Шора Ногмов действительно жил в ту замечательную эпоху, был современником Пушкина и Лермонтова. В тридцатых годах девятнадцатого века он служил в Петербурге и был прекрасно знаком не только с русской литературой, но со многими представителями русской литературной элиты. Так что вполне резонно предположить, что он действительно мог пересечься с Александром Сергеевичем. Но где и когда? Это все-таки плод фантазии художника или реальный исторический факт? Попробуем разобраться.
Доподлинно известно, что Александр Сергеевич бывал на Кавказе дважды – в 1820г. и 1829г. Заглянем в архивы.
…Весной 1820 года, благодаря хлопотам влиятельных друзей и вместо высылки в Сибирь или заточения в Соловецкий монастырь Пушкина перевели из столицы в Екатеринослав (сейчас Днепропетровск) служить в канцелярии Комитета об иностранных поселенцах. После шумных балов Петербурга провинциальная жизнь оказалась утомительной и скучной. Александр Сергеевич развлекал себя как мог. Как-то, маясь от тоски, он решил искупаться в Днепре и заболел лихорадкой. В то время через город проезжал герой Отечественной войны 1812 года генерал Н.Н. Раевский (медики предписали ему лечение на Кавказских минеральных водах). Его младший сын Николай, давний приятель Пушкина по Царскому Селу, обнаружил больного Александра в бреду и убедил отца взять его с собой на Кавказ.
Суровая красота горного края сразу захватила в плен двадцатилетнего Пушкина. Именно в тот приезд он занес в дорожный дневник краткие пометки, определившие сюжет будущей романтической поэмы «Кавказский пленник»: «Аул, Бештау, черкесы, нападение. Пленник – девушка – любовь – побег».
«Два месяца я жил на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные, горячие. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, жалею, что не восходил ты ось мною на острый верх пятихолмного Бештау, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной», — писал Пушкин своему брату.
Спустя девять лет Александр Сергеевич вновь попал на Кавказ, но на этот раз уже целенаправленно. Эта поездка сопутствовала его творческим замыслам завершить роман «Евгений Онегин» главой о декабристах, сосланных на Кавказ. В пути он вел записки, опубликованные в 1836 году под названием «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года».
По дороге из Тифлиса во Владикавказ Пушкин решил свернуть с прямого пути для заезда на горячие воды, где имел счастье лечиться девять лет назад. Увиденное зрелище его поразило: исчезли все кибитки и палатки, в которых он иногда ночевал в первом походе. Горячие источники были обустроены и облагорожены. Вокруг пестрели симпатичные домики, бурлящие ванны, красочные бульвары и цветники.
«Везде порядок, чистота, красивость», – зафиксирует он, сожалея при этом, что «источники лишились своей заповедной дикости», которую он застал в 1820 году. «Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в путь…».

А где же находился в 1820-м и 1829-м годах Шора Ногмов?
Сын небогатого отца, Шора с юных лет выказывал особенное влечение к книгам. В восемнадцать лет кроме своего родного языка он уже знал арабский, турецкий и персидский. На 25-м году жизни, в 1819 году, он обратил свой взор на русскую армию с целью изучить русский язык. Он явился к командиру казачьего полка с просьбой взять его на службу в полковую канцелярию. Там он провел около трех или четырех лет, в течение которых успел освоить русский язык настолько хорошо, что в 1828 году был прикомандирован к школе для обучения аманатов из разных горских племен, содержавшихся в крепости Нальчик, русскому и турецкому языкам. И обязанность эту он два года выполнял с присущим ему усердием и ожидаемым успехом.
Судя по всему, встреча Пушкина и Ногмова никак не могла состояться в 1820 году. Первый был тяжело болен, а второй только-только начал изучать русский язык и вряд ли что-то знал про юного 21-летнего гения. Плюс, на картине Балицкого Ногмов изображен с бородой, а значит, ему больше 30-ти лет, потому что «…с 35–40 лет мужчины отпускали бороду, и это было знаком перехода в возрастную категорию «старших». Более молодым отпускать бороду считалось неприличным, это воспринималось как претензия на не соответствующий возрасту и незаслуженный статус…». В 1820 году Ногмову было всего 24 года.

Но в 1829 году, когда Александр Сергеевич, возвращаясь из Закавказья, вновь заехал на горячие воды, встреча вполне могла состояться, потому что Пушкин провел здесь три недели — с 15 августа по 8 сентября 1829 года — и «… принял девятнадцать нарзанных ванн, уплатив за них… девятнадцать рублей…», а Ногмов работал в аманатской школе Нальчика и мог из номера газеты «Тифлисские ведомости» от 28 июня 1829 года узнать, что Пушкин посетил Грузию и отправился на Кавказ.
Возможно, когда-нибудь дотошные исследователи найдут документальные свидетельства этой встречи, а пока мы можем лишь изучать архивные дневники современников Пушкина и Ногмова и говорить о гипотезе, которая имеет полное право на существование.
*«Ученый просветитель Кабарды Шора Ногмов читает свои произведения А.С. Пушкину». И.Балицкий.
Prospect-sk № 56/2025